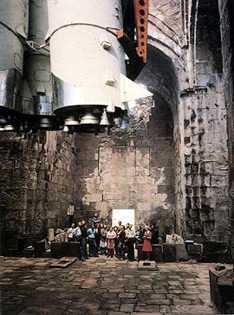Re: цензії
- 18.01.2026|Ігор ЗіньчукПеревірка на людяність
- 16.01.2026|Тетяна Торак, м. Івано-ФранківськЗола натщесерце
- 16.01.2026|В´ячеслав Прилюк, кандидат економічних наук, доцентФудкомунікація - м’яка сила впливу
- 12.01.2026|Віктор Вербич«Ніщо не знищить нас повік», або Візія Олеся Лупія
- 12.01.2026|Микола ГриценкоВитоки і сенси «Франкенштейна»
- 11.01.2026|Тетяна Торак, м. Івано-ФранківськДоброволець смерті
- 08.01.2026|Оксана Дяків, письменницяПоетичне дерево Олександра Козинця: збірка «Усі вже знають»
- 30.12.2025|Ганна Кревська, письменницяПолотна нашого роду
- 22.12.2025|Віктор Вербич«Квітка печалі» зі «смайликом сонця» і «любові золотими ключами»
- 22.12.2025|Тетяна Торак, м. Івано-Франківськ«Листи з неволі»: експресії щодо прочитаного
Видавничі новинки
- Олександр Скрипник. «НКВД/КГБ проти української еміграції. Розсекречені архіви»Історія/Культура | Буквоїд
- Анатолій Амелін, Сергій Гайдайчук, Євгеній Астахов. «Візія України 2035»Книги | Буквоїд
- Дебра Сільверман. «Я не вірю в астрологію. Зоряна мудрість, яка змінює життя»Книги | Буквоїд
- Наомі Вільямс. «Пацієнтка Х, або Жінка з палати №9»Проза | Буквоїд
- Христина Лукащук. «Мова речей»Проза | Буквоїд
- Наталія Терамае. «Іммігрантка»Проза | Буквоїд
- Надія Гуменюк. "Як черепаха в чаплі чаювала"Дитяча книга | Буквоїд
- «У сяйві золотого півмісяця»: перше в Україні дослідження тюркеріКниги | Буквоїд
- «Основи» видадуть нову велику фотокнигу Євгена Нікіфорова про українські мозаїки радянського періодуФотоальбоми | Буквоїд
- Алла Рогашко. "Містеріум"Проза | Буквоїд
Літературний дайджест
Выйти из гетто
Мы наблюдаем сегодня крах кураторского проекта русской поэзии. Того самого, что превратил её в гетто.
Мы уже десять лет говорим о нарастающем упрощении читательских предпочтений. Но ведь условные поэты являются и читателями. Почему же, если их читательские предпочтения в массе своей упрощаются, поневоле не начать проще писать им самим?
Хвастливое утверждение Зинаиды Гиппиус: «Мы не в изгнании, мы в послании» — взято нынче на вооружение едва ли не всеми прозу- и стихопишущими эмигрантами.
Правда, большинство из них Гиппиус и не читывали, слов этих, соответственно, никогда не слышали, но с тем большим пылом ломятся всё в ту же широко раскрытую дверь.
Здесь, впрочем, необходимо уточнить, что дверей на самом деле две.
Одна — в изгнание — и впрямь как никогда широко распахнута. Разве что никто, кроме самих изгнанников, не назовёт изгнанием нынешнюю (и вчерашнюю) добровольную, никем и ничем не вынужденную, окончательную разлуку с родиной.
Ну и, разумеется, существует отнюдь не гипотетическая возможность установления нового кордона на границах нашей страны. Кордона, который воздвигнет «принимающая сторона» — и назовёт его санитарным.
Другая же дверь — в послание — намертво заколочена раз и навсегда. Хуже того, её не существует. Имеется только стена, в которой можно попробовать её прорубить. Попробовать, естественно, без малейшей гарантии на успех. И сугубо в индивидуальном порядке.
В послание, вопреки слову Гиппиус, во множественном числе не ходят. То есть ходить-то ходят, но как-то не прорубаются. И даже в двойственном числе, русскому языку вообще несвойственном.
И точно та же история со знаменитыми словами Марины Цветаевой про «гетто избранничеств». Равно как и с другими: «В сём христианнейшем из миров поэты — жиды».
Последнее выражение, вопреки широко распространённому сегодня убеждению, отнюдь не реципрокно. Переведу для самых умных.
Оно отнюдь не означает, будто в сём христианнейшем из миров жиды — поэты. Хотя один из современных стихотворцев остроумно (и во многом справедливо) назвал нынешнюю русскую поэзию еврейским баскетболом.
В том смысле, что как в баскетбол играют почти исключительно афроамериканцы (по объективным параметрам — люди рослые, подвижные, прыгучие), так и русской поэзией занимаются сегодня почти исключительно евреи, причём по причинам куда более умозрительным, чтобы не сказать сомнительным.
А нет ли в этом антисемитизма?
Антисемитизма в этом нет.
Следите за руками.
Переходим к «гетто избранничеств».
Цветаева употребила явно неуместное здесь множественное число (правда, с невольной аллюзией на «бурь порыв мятежный»). Ну, то есть она, возможно, думала, будто у неё своё гетто, у Пастернака своё, у Мандельштама своё, да и у Рильке тоже своё.
Но скорее всего, просто неточно выразилась. И ввела тем самым в заблуждение неисчислимые множества.
Блоковские тьмы, и тьмы, и тьмы (поэтов — в самоощущении и по самоназванию).
Точь-в-точь как Гиппиус, от которой отпочковались тьмы, и тьмы, и тьмы «посланцев».
Вопрос о том, сколько в поэзии гетто, не поддаётся однозначному ответу (благо и само слово «гетто» звучит одинаково и в единственном, и во множественном числе).
Наверняка их несколько.
И избранничеств тоже несколько.
Но отнюдь не несколько десятков.
Не несколько сотен.
И уж подавно не несколько тысяч.
Читая нашумевшую статью Марии Степановой с призывом вернуться в гетто сложности и непонятности, она же непонятость, ради сохранения священного жреческого огня, адресованную десяткам и сотням (если не тысячам) собратьев по поэтическому цеху, я никак не мог отделаться от ощущения дежавю.
Конечно, сама Степанова и поддержавший её по сути, хотя и формально оспоривший Михаил Айзенберг пишут с осознанной невнятностью, не говоря уж о принципиальной анонимности объектов и адресатов высказывания, и фирменное «приращение смысла» заботит их, похоже, куда больше, чем сам по себе предполагаемый (или искомый) смысл.
Но кое-что понять можно.
И это кое-что живо напоминает кое-что другое.
Но сначала стоит сформулировать фундаментальное возражение по самому вопросу о сложности и простоте.
И пастернаковская «ересь», она же «неслыханная простота», а на деле неслыханная глупость, тому порукой. Тем более что Осип Мандельштам проделал тот же путь в противоположную сторону, и с куда более впечатляющими результатами.
Мне претит примитивное представление о том, будто поэт пишет сложно или просто (как вариант — сложнее или проще) по собственному осознанному выбору. Поэт, знаете ли, пишет по вдохновению. Которое само подсказывает ему (орудию языка, по Бродскому) и смысл, и стиль, и стихотворный размер.
Да и степень простоты или сложности тоже.
Конечно, если речь идёт о подлинной поэзии (по ощущению, а отнюдь не по результатам), а не о поэзии прикладной или, как её называли двести лет назад, салонной. Хотя строгой разграничительной линии между поэзией прикладной и подлинной, разумеется, не существует. На деле там широкая нейтральная полоса.
И, скажем, Маяковскому или Евтушенко не раз доводилось нечаянно заступать на нейтральную полосу то с одной стороны (со стороны подлинной поэзии), то с другой (со стороны поэзии прикладной).
А буквально у нас на глазах то же самое происходит в последние год-два с Всеволодом Емелиным. В каком-нибудь сугубо прикладном фельетоне, написанном для «Соли», вдруг попадаются два-три подлинно поэтических четверостишия. А в исповедально-выстраданном стихотворении нет-нет да и промелькнёт заведомо салонная (по современным меркам) строфа.
Как раз Емелин-то — вернее, однозначно определившийся емелинский успех, — похоже, и не даёт спать спокойно поэтам без читателя или как минимум поэтам без стороннего читателя. Не даёт спать спокойно поэтам для поэтов.
Потому что стихи Емелина, как прикладные, так и подлинные (широкой публике и впрямь подчас бывает трудно уловить определяющие отличия), востребованы широкой и достаточно разнородной аудиторией, в том числе и (зажмурьтесь, пока я переведу дыхание) интеллектуалами.
Интеллектуалы (сами не пишущие стихов) за последние сорок лет читали Бродского и Кушнера, потом Парщикова со Ждановым, потом Пригова с Кибировым — и теперь читают Емелина.
Всё. Я не о вкусах, а о фактах. Список короток, но он полон.
Всё остальное даже в вершинных проявлениях (вроде Елены Шварц; хотя, собственно, кто вроде неё?) — поэзия для поэтов. Поэзия для стихопишущих графоманов и/или для поэтов.
Поэзию сегодня читают три-четыре процента населения, утверждает со ссылкой на социологов Айзенберг и называет эту цифру «вовсе не унизительной». И сама эта ссылка, и утверждение о неунизительности — чистой воды напёрсточничество.
Потому что в эти три-четыре процента, разумеется, входят и Пушкин, и Ахматова, и Бродский, и тот же Евтушенко (жив, курилка), и какая-нибудь Лариса Рубальская. Входит Емелин (40 тыс. просмотров телеинтервью с ним на Russia Today). Входит Евгений Мякишев (продавший «Избранное» тиражом в 3 тысячи). Входит Веро4ка.
Уберите их — и гордые три-четыре процента превратятся в жалкие три-четыре тысячи, а на долю любого насельника «гетто избранничеств» набегут три-четыре сотни, а то и три-четыре десятка. Это и будут реальные цифры.
Но и вопроса о том, как писать для этой (да, понимаю, опостылевшей) аудитории — просто или сложно, — не стоит. Потому что и простоту, и сложность (а также степень той и другой и их обоюдную соподчинённость) диктует исключительно вдохновение. Ну или время. Мандельштамовский шум времени, вдохновению соприродный.
Мы уже десять лет говорим о нарастающем упрощении читательских предпочтений. Но ведь поэты (назовём их условно так) являются и читателями. Почему же, если их читательские предпочтения в массе своей упрощаются, поневоле не начать проще писать им самим? Из желания понравиться публике и частично разделить с Емелиным и Веро4кой их успех (как подозревает Степанова)?
Отнюдь нет.
Упрощается, похоже, и само вдохновение — только не приход его (сопоставимый в наши дни с «приходом»), а характер.
Вот есть в Петербурге талантливая поэтесса Оля Хохлова. В личной беседе, а потом и на письме я сформулировал свои претензии к её стихам следующим образом:
У Оли подлинно поэтическое мышление (суггестивно-эллиптическое), но она его, кажется, побаивается и норовит поэтому многое читателю растолковать — разжевать или, если угодно, разбавить (как вино водой) — и напрасно. Есть речи: значенье темно иль ничтожно (ничтожно — зачеркнуть).
В разговоре Оля приняла мой упрёк, но поделать с собой она ничего не может: вдохновение чаще всего диктует ей именно такую (на мой вкус, недостаточную) тесноту стихового ряда. Притом что к славе своей (а у неё есть небольшая, но слава) Оля равнодушна — в той мере, естественно, в какой может быть равнодушна к славе молодая и дерзкая поэтесса.
То есть упрёк, предъявленный поэтессой Степановой безымянным стихопишущим множествам, в том, что они «всей оравой, гурьбой и гуртом» ломанулись в неслыханную простоту в погоне за славой, представляется мне неправомерным в той его части, в которой речь идёт об этиологии этого действительно имеющего место и набирающего скорость процесса (то есть в части погони за славой).
Куда любопытнее, на мой взгляд, этиология самого выступления Марии Степановой. Да и Михаила Айзенберга. Да и иже с ними. И это возвращает нас к началу статьи — к испытанному мною ощущению дежавю и к размышлениям о «гетто избранничеств».
Или, если угодно, о гетто как таковом.
Из истории нам известно, что массовому исходу евреев из гетто (а в России — из черты оседлости), помимо государственного, религиозного и бытового антисемитизма, препятствовал ещё один внеэкономический фактор.
И фактором этим было поведение евреев, уже покинувших гетто в индивидуальном порядке. Всё это были яркие люди (как минимум наделённые недюжинными способностями или профессиональными навыками) и, разумеется, страшные индивидуалисты. Едва выйдя из гетто, каждый из них (вопреки широко распространённому убеждению в прямо противоположном) пытался всячески воспрепятствовать дальнейшему — массовому — исходу. Хотя, случалось, и помогал кому-нибудь в индивидуальном порядке.
Противодействие это было двояким: с одной стороны, вышедший из гетто в индивидуальном порядке и благожелательно встреченный христианским обществом и государством еврей (чаще, правда, выкрест) принимался внушать властям и гражданам, что массовый исход: 1) нежелателен; 2) чреват разнообразными опасностями как для общества, так и для самих евреев; 3) евреям и не нужен, что бы там ни утверждали отдельные смутьяны, подстрекатели и прочие злопыхатели.
С другой стороны, тот же самый человек внушал евреям, остающимся в гетто, что: 1) внешний мир им враждебен, а значит, искать там в принципе нечего; 2) массовый исход из гетто неизбежно приведёт к утрате веры и благочестия, приведёт к невиданному доселе в еврейской среде разврату, а в конечном счёте и к полному исчезновению еврейства путём либо растворения в нееврейской массе (ассимиляция), либо насильственного уничтожения.
Разумеется, эта заведомо лицемерная позиция не выдерживала никакой критики. И была бы сметена жизнью намного раньше, чем это произошло на самом деле, не поддержи этих ярких изгоев (и чаще всего вероотступников) раввинат. А поддерживал он их, естественно, потому, что интересы раввината и выходцев-индивидуалов целиком и полностью совпадали.
Выходцам не нужны были соперники во «внешнем мире»; массовый исход евреев обернулся бы для них, фаворитов общественного мнения, колоссальными потерями, прежде всего репутационными, а затем и со всей неизбежностью экономическими.
Кроме того, при таком раскладе гордый и тщеславный выходец-индивидуал автоматически лишился бы обожания обитателей гетто, того самого обожания («Наши люди во власти! Наши люди в музыке! Наши люди в шахматах!»), которое нет-нет да проскальзывает, случается, до сих пор.
Ну а раввинат? Раввинат потерял бы власть над еврейской массой — власть от колыбели до гроба.
Осторожные оппоненты Марии Степановой мягко напоминают ей, что она сама ведёт далеко не столь затворническую и самоотречённую жизнь безвылазно в поэтическом гетто, к которой призывает безымянных собратьев. Что она главный редактор крупного портала, лауреат ряда премий и стипендии имени Бродского, автор многих книг, постоянный сотрудник «толстых» журналов и нечастый, но желанный гость аж на телевидении. Одним словом, князь мира сего явно не обделил её своими милостями.
Да и в отказ она не ушла. То есть она — в рамках нашей развёрнутой метафоры — еврей, в индивидуальном порядке вышедший из гетто, а теперь отчаянно отговаривающий от массового исхода всех остальных его обитателей.
Ну так сама вернись в гетто! Покажи пример! Нет, не хочет. То есть, может быть, и хочет, но не возвращается. Да и Михаил Айзенберг в своей полуполемике со Степановой выглядит типичным представителем раввината. Важным представителем. Может быть, даже главным цадиком.
«Катастрофа? — риторически вопрошает он, характеризуя состояние современной поэзии. — Да, но катастрофа рабочая». И сам этот словообраз — рабочая катастрофа, — уместный разве что в устах у министра МЧС, выдаёт его с головой.
И Степанова, и Айзенберг — поэты для поэтов (если они вообще поэты, время покажет), но они для поэтов прежде всего поэты-начальники. Поэтических гетто сейчас несколько; они рулят одним — может быть, по-прежнему самым многонаселённым и самым шумным. Но рулят. Рулят деспотически. И рулить им, судя по всему, нравится.
А тут — вот ведь напасть — ещё не рушится, но уже трещит само гетто и его обитатели разбегаются кто куда. Трещат и другие поэтические гетто — и дружественные степановскому, и недружественные (гетто уже не Степановой, но Степанова, который Евгений), и даже враждебные.
То, что мы наблюдаем сегодня, — это крах (ну или начало краха) кураторского проекта русской поэзии как такового. Того самого кураторского проекта, который и превратил её в гетто (в несколько гетто) и наглухо запер его изнутри.
В сём христианнейшем из миров поселив — уж не пожизненно ли? — всех поэтов в черту оседлости. Но и сохранив, правда, пару-тройку потайных ходов для личных начальственных вылазок во внешний мир.
Беда (кураторов) не в том, что поэты начали в массовом порядке писать просто. И не в том, что им захотелось обрести хоть какого-нибудь стороннего читателя. Беда (кураторов) в том, что поэты наконец осознали: без читателя (хотя бы гипотетического) поэзии не бывает.
А те байки, которыми их, причём нарочито невнятно, кормит поэтический раввинат, у которого и у самого нет стороннего читателя, — это не про поэзию, и не про приращение смысла, и не про башню из слоновой или там моржовой кости, а про манипуляцию их сознанием, а в конечном счёте — про манипуляцию их волями и судьбами.
Это не про тесноту стихового ряда, а про технологию власти. Так что выходить из поэтического гетто во внешний мир, причём выходить в массовом порядке, рано или поздно всё равно придётся. Другое дело, что ничего хорошего нет и там, но я ведь и не обещал вам хеппи-энда.
Виктор Топоров
Коментарі
Останні події
- 19.01.2026|15:42«Книжка року’2025»: Парад переможців: Короткі списки номінації «Дитяче свято»
- 14.01.2026|16:37Культура як свідчення. Особисті історії як мова, яку розуміє світ
- 12.01.2026|10:20«Маріупольська драма» потрапили до другого туру Національної премії імені Т. Шевченка за 2026 рік
- 07.01.2026|10:32Поет і його спадок: розмова про Юрія Тарнавського у Києві
- 03.01.2026|18:39Всеукраїнський рейтинг «Книжка року ’2025». Довгі списки
- 23.12.2025|16:44Найкращі українські книжки 2025 року за версією Українського ПЕН
- 23.12.2025|13:56«Вибір Читомо-2025»: оголошено найкращу українську прозу року
- 23.12.2025|13:07В «Основах» вийде збірка українських народних казок, створена в колаборації з Guzema Fine Jewelry
- 23.12.2025|10:58“Піккардійська Терція” з прем’єрою колядки “Зірка на небі сходить” у переддень Різдва
- 23.12.2025|10:53Новий роман Макса Кідрука встановив рекорд ще до виходу: 10 тисяч передзамовлень